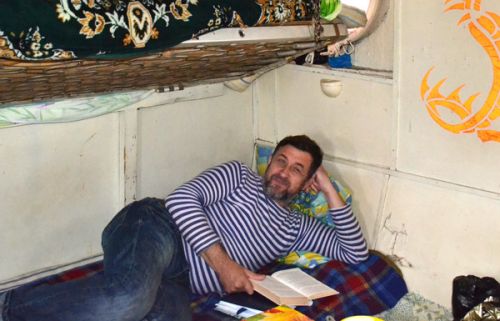(Окончание. Начало в №182 от 3 октября, №187 от 10 октября, №192 от 17 октября, №197 от 24 октября, №202 от 31 октября, №205 от 7 ноября, №210 от 14 ноября, №215 от 21 ноября, №220 от 28 ноября)
Всё перекаты да перекаты…
Как ни жаль, но отведённый газетой объём заканчивается, пора, как говорится, и честь знать. Конечно, спокойное плавание на теплоходе особых приключений не предполагает, хотя берега проплывают, навевая воспоминания. Здесь был в командировке… Где-то здесь, по левому берегу стояла огромная, уходящая далеко в лес поленница полусгнивших дров, нарубленных когда-то для пароходов… Здесь ночевали у охотника в зимовье, собачку звали Казбек… А здесь на мели сидели!
Черепановские острова. Опасное место, сильное течение, направленное прямо в скальный берег, вода бурлит над затонувшим теплоходом «Алдан». В эту навигацию перед входом в перекат на мели посидел теплоход «Миргород». Ещё одно «роковое» место — перекат Быстрый Яр. Здесь фарватер имеет резкий поворот, течение сваливает на остров, и, если промедлил — сидеть тебе на мели. На перекате Стремительный установлен единственный в бассейне семафор. Дежурит семафорщик и даёт разрешение на проход судам вверх или вниз. Мне довелось видеть перекат Смеловский в период предельного мелководья. Это была сплошная каменистая шивера, через которую мы смогли пройти только на моторной лодке. Путейские катера с осадкой в 90 сантиметров стояли ниже по реке и ждали прибыли воды. Баягантайский, Васькина протока, Пилы, Джилигдинский…
Вспомнил, как мы на скоростном теплоходе «Лена» поднимались вверх по Алдану. Ровно, мерно шумят двигатели, и казалось, что плавание будет безмятежным. Но вскоре началось: то, что вода здесь прибывает, мы знали, но чтобы такое количество мусора на реке! Его несло по всей ширине реки, мелкие палки, трава, брёвна, целые деревья. Капитан Александр Васильевич Васильев напрягся: если для буксира встречные палки — это просто мелкие неприятности, то для нашего мощного водомёта, который всасывает в себя всё, что плывёт перед ним, это проблема. Вскоре останавливаемся — промывка, через полчаса ещё, и так всё время. Когда через импеллер пролетает ветка или палка, ощущается приличный рывок, и такие толчки, а порой даже удары становятся всё более частыми. Итог — подшипник всё же вышел из строя, и «Лена» вернулась в Якутск.
Почему Алдан не стал транспортной магистралью
Одна из самых главных и первых проблем Алдана для судоходства — камни. Зимой они вмерзают в лёд, а весной начинают движение вниз по реке и могут вытаять и упасть на дно в любом месте. Неотмеченный «свежий» камень пробьёт днище любому пароходу или барже. Поэтому путейцы проводят сплошное траление каждую весну, обозначают обнаруженные камни, а потом их убирают. В 70-е годы их просто взрывали. Когда было открыто алданское золото, уже с 1924 года на реке начались камнеуборочные работы, чуть позднее — обстановочные, в 1933 году на особо затруднительных перекатах введена освещаемая обстановка с 31 плавучим знаком. К 1970 году ставилась задача довести глубины на верхнем Алдане до 140 см, на Витиме и нижнем Алдане (от Хандыги до устья) — до 220 см. Конечно, это были недостижимые цифры: держалась глубина не более 180 см. Она позволяла весной ходить до Томмота даже танкерам типа «Ленанефть», хотя рейсы эти обеспечивались дополнительными трудовыми и финансовыми затратами. Протраль, камни убери, знаки дополнительные выставь! Вот откуда капитаны приходили с седыми висками!
С 1989 года, когда прекратились дноуглубительные и камнеуборочные работы, такие рейсы стали невозможными. Камней сейчас в русле невероятное множество, и они продолжают «сыпаться». Задача путейцев — так обставить опасные места знаками, чтобы ход был безопасным.
Вторая проблема — очень резкие перепады воды, порой труднопрогнозируемые. Учур, Тимптон дают такие выбросы, что буквально за несколько часов вода может подняться, смыть все знаки, а потом опять упасть ниже прежнего уровня. Гарантий никаких. В 2001 году такой скачок воды вкупе с ледовым затором привёл к катастрофе Хандыгский речной порт. Вполне преуспевающее предприятие, хороший и надёжный вроде бы затон — и вот вода со льдом поднимаются всё выше, выше, переливаются и идут выше дамбы, ломают, топят флот, баржи, плавкраны, док, выталкивая, что не утонуло, на отлогий берег. Судоходное предприятие прекратило своё существование.
Третья проблема — это то, что Алдан «встаёт» раньше Лены (понятно, это ведь горная река), и ледоход начинается позже. Рядом — навигация, планы и тонно-километры, а тут ещё зимний отстой.
Ну а с постройкой железной дороги и выходом её к Лене уделом Алдана стали местные перевозки в небольших масштабах. Основной груз — это уголь из Джебариков (раньше писали — Джыбырыкы), но это уже, можно сказать, нижний Алдан.
Невольно напрашивается вывод: с природой не борись, она всё равно возьмёт своё. Так и Алдан — уступил людям, позволил какой-то период эксплуатировать себя, а потом стал возвращаться в своё естественное, «бытовое» состояние. А сколько сил затрачено было!
Хотя кто знает: начнут разрабатывать, скажем, алмазные трубки (они тут имеются), апатитовые или урановые месторождения или ещё что-нибудь — и начнут вновь благоустраивать Алдан, превращая его в транспортную магистраль.
Постскриптум
По возвращении в Якутск долго ещё стояли у меня перед глазами скалы, утёсы, дикие берега, утки, рыба… Да, пожалуй, при слове «Алдан» и сейчас встают. Очень интересно пройти реку — в сознании она превращается в клубок, вся в одном «файле». Сколько встреч, сколько впечатлений, сколько информации! И экстремальные условия не помешали. Мой совет тем, кто собирается повторить что-то подобное: не надо бояться замерзнуть, споткнуться, что не получится или что-то в этом роде. Если уверен — езжай, и все дорожки перед тобой откроются. А то, что перед моими глазами в последние дни плыл лёд, наоборот, придало путешествию некую остроту.
5 октября закрылась навигация на верхнем Алдане, ниже Джебариков до устья — через неделю. Река встала.
Конечно, я начал работать над покилометровой рисованной картой, над сортировкой фотографий для книги. Уже поступают вопросы: «Когда сможем подержать в руках новый путеводитель?»
Приехал ко мне Егор Егорович — полным ходом идёт наша работа по эвенкам Усть-Майского района. Есть биографии людей, фотографии, рассказы об участниках войны, о передовиках производства, есть исторические сведения — мы уже верстаем и, скорее всего, к Новому году напечатаем.
Побывала у меня в гостях в Якутске Галина Егорова из Хатыстыра. Рассказала, что французы добрались на велосипедах до Магадана, теперь её электронная почта заполнена желающими побывать в этих уникальных местах:
— Дамиан сказал, что приедет на следующий год, я хочу познакомить его со своей одноклассницей, которая работает в школе. А что? Он всё равно неженатый… — делится своими планами Галина. Привезла баночку голубичного варенья.
Позвонил один знакомый и спросил про опубликованное фото, что я сделал в Томмоте: «Ты что, с вертолёта снимал?» Нет, вертолёта, к сожалению, не было, залез на стрелу плавучего крана.
Олег Петрович Кизин передал мои книги с дарственной подписью в библиотеку Хатыстырской школы. Колёса, украденные из Володиной машины в Алдане, не нашлись.