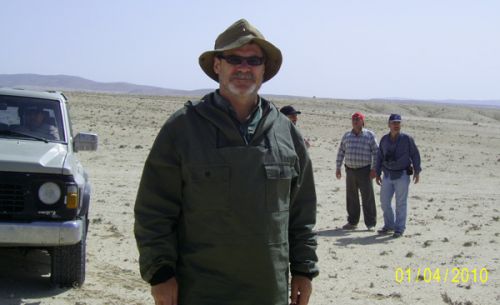Николай Гриб родом из города Петриков Гомельской области Белоруссии, что лежит в среднем течении реки Припять и граничит с Россией и Украиной. Место без природных чудес, однако маленький Коля интересовался геологией, к тому же в конце 60-х в Белоруссии активно шла разведка месторождений нефти и каменной соли.
После школы он поступил в Старо-Оскольский геологоразведочный техникум. Окончив его, два года отработал в Бурятии и пришел в Томский политехнический институт на геологоразведочный факультет. В 1982-м перевелся на заочное обучение, трудоустроившись в каротажную партию Южно-Якутской геологоразведочной экспедиции.
Высший каротаж
— Каротаж — геофизическое исследование скважин, — рассказывает Николай Николаевич. — У каждой горной породы свои физические свойства. На основании этого разработаны методы исследования – электрические, магнитные, акустические, радиоактивные и так далее. Скажем, уголь обладает низкой радиоактивностью, а песчаники более высокой, учитывая это, можно выделить угольные пласты.
Николай Гриб начал работу в должности геофизика, затем стал начальником опытно-методического отряда, потом главным инженером партии, начальником каротажной партии.
— Мы занимались геологоразведкой на уголь, воду, железо, золото и другие полезные ископаемые. Но в основном экспедиция специализировалась на поиске и разведке угольных месторождений, — говорит он.
ЮЯГРЭ в те годы вела полный комплекс геологоразведочных работ, куда входило все, начиная с поисков месторождений до детальной их разведки и постановки на учет в государственную комиссию по запасам (ГКЗ).
— Например, на Эльгинском месторождении мы начинали с поисково-оценочных работ, предварительной разведки и вплоть до детальной. Я участвовал в написании отчета и защите запасов, постановке месторождения на баланс ГКЗ. Благодаря нашей работе подсчитаны запасы этого крупнейшего в России месторождения – 2,3 млрд тонн коксующегося угля.
От золы до сейсмики
Работая главным инженером партии, Николай Гриб поступил в заочную аспирантуру ВНИИ «Геофизика». Кандидатскую диссертацию посвятил изучению зольности углей геофизическими методами.
— До нас в Южной Якутии таких исследований никто не вел. А ведь зольность — это важный фактор, от которого в том числе зависит и цена угля. Казалось бы, что может быть проще – забурился и смотришь, есть уголь в керне или нет. Но керн не всегда выходит в полной мере. Допустим, мощность пласта метр, а достают полметра. Уголь хрупкий, он размывается, растрескивается. Потом в процессе бурения встречаются породные прослойки, нарушающие структуру угля, и тогда становится непонятно истинное строение, мощность. Поэтому для уточнения мощности, строения угольного пласта и применяется геофизика. Ну а мы разработали методику определения зольности.
Позднее Николай Гриб переключился на физику мерзлых пород. В 90-е годы, когда геологоразведка пришла в упадок, его пригласили в Нерюнгринский филиал ЯГУ. Начинал доцентом.
— У меня были наработки и материалы за 17 лет в экспедиции, я знаю особенности наших месторождений. Они лежат в вечной мерзлоте, и хоть она в Южной Якутии островная, все равно влияет на характеристики и свойства горных пород, меняя их в зависимости от состояния, — рассказывает ученый.
На базе Технического института – филиала ЯГУ в Нерюнгри вскоре открыли лабораторию физики мерзлых пород, где изучали криогенные процессы, например, под железнодорожным полотном АЯМа, на других промышленных и жилых объектах.
— Еще одно направление – инженерная сейсмология. При строительстве в зонах с повышенной сейсмичностью необходимо микрорайонирование под строительные площадки. Интенсивность проявления сейсмичности зависит от грунтовых условий стройплощадок. Скажем, песчаные, обводненные грунты усиливают сейсмичность, а на скальных она может даже понизиться, — рассказывает Николай Николаевич.
Одна из последних работ, где он принимал участие – карта сейсмотектоники Восточной Сибири, созданная по федеральному госзаказу группой ученых из разных институтов включая Нерюнгринский филиал СВФУ.
— Карта сейсмического районирования ОСР-97 масштабом 1:8 000 000, т.е. 80 км земли в 1 мм на бумаге, поэтому, чтобы уточнить сейсмическую опасность для конкретного района и даже для конкретного объекта, проводятся специальные сейсмологические исследования. В Южной Якутии эту нишу заняли мы, — уточняет Николай Гриб.
Где родился, там и отучился
— Нерюнгринским, тындинским, алданским и всем прочим абитуриентам рекомендую поступать в Нерюнгринский институт. Я уже 20 лет здесь отработал и скажу – лучше учиться дома. Потому что мы даем тот же диплом, набор знаний, ту же квалификацию. Но вот навыков прививаем гораздо больше, потому что нет проблем с практикой, — советует Николай Николаевич.
Угольные разрезы и шахты, энергетические, золотодобывающие предприятия охотно берут студентов Технического института (филиала) СВФУ на практику. А ведущие специалисты ХК «Якутуголь», УК «Нерюнгриуголь», ОАО «ДГК» читают в вузе лекции.
— Потом вуз наш небольшой, дети на виду, мы работаем с ними индивидуально, поддерживаем контакт с родителями, ведь по одним тротуарам ходим, — продолжает Николай Гриб.
Выпускники Технического института (филиала) СВФУ не испытывают проблем с трудоустройством. Например, специалистов по подземным работам здесь выпускают все еще меньше существующей потребности. И работают ребята не только на предприятиях Нерюнгри, но и в Читинской, и Амурской областях, в Приморье, Бурятии, Нюрбинском и Мирнинском районах.
А еще здешние студенты учатся на рабочие специальности и приходят на производство с профессией. Поэтому и трудоустраиваются уже на практике, получая не только практические знания, но и заработную плату.
Нерюнгринская школа
Николай Гриб – заместитель директора Технического института (филиала) СВФУ им. М.К. Аммосова по научной работе, вот что он говорит:
— Вузовская наука направлена на конкурентоспособность специалиста на рынке труда. Чтобы он не только владел ремеслом, но и умел творчески и креативно мыслить, внедрять новшества. Наши работы в основном носят прикладной характер, т.е. мы решаем проблемы, которые возникают на производстве. И горнякам так удобнее, ведь научные исследования — это не их профиль. Например, когда строился ВСТО, мы делали инженерно-геофизические исследования трассы, изучали условия переходов через водотоки, занимались сейсморайонированием площадок под НПС. Мы ведем и фундаментальные исследования, одна из последних работ — карта сейсмотектоники Восточной Сибири. И они получают потом свое практическое воплощение. Та же карта востребована при строительстве и организации горнодобывающего производства, при создании транспортной, энергетической инфраструктуры и даже службами МЧС.
Профессор Николай Гриб подготовил одиннадцать кандидатов и одного доктора наук. Сейчас у его учеников есть собственные последователи («Мои внуки» — называет он их шутливо), т.е. это уже научная школа. Ею разработаны методики по оценке зольности и качества угля, физико-механических свойств углевмещающих пород, оценка влияния промышленных взрывов на здания и сооружения и другие.
— Я начал заниматься наукой в советское время, промышленностью она тогда была востребована, сотрудничество с нею стимулировалось. Может быть не слишком эффективно, но научный подход применялся в организации производства. Теперь приоритеты изменились, главным стало зарабатывание средств. И пока дела на предприятии идут неплохо, к нам не обращаются. Хотя, по-хорошему, не только государство должно вкладывать средства в науку, но и бизнес. Может быть, предприятиям проще купить за рубежом готовое оборудование, технологии, чем развивать свое, но когда возникают международные проблемы и импортное резко дорожает, а кое-что становится невозможно купить, тогда что? Поэтому сейчас на отечественные разработки появляется спрос. Институт без заказов не остается. То развитие, которое получил регион, безусловно, отразилось и на состоянии науки, — говорит Николай Гриб.