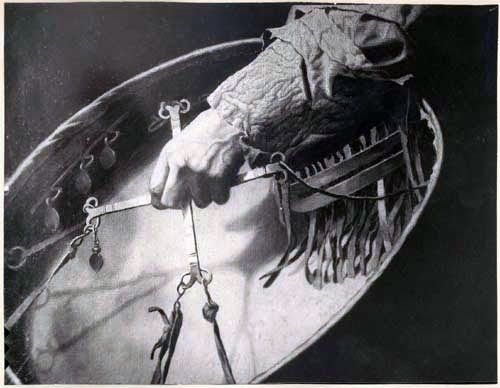Впервые продвигавшиеся на восток, «встречь Солнцу» землепроходцы, носители процесса расширения территории государства, «великую реку Лену» узнали в 1619 г., и с тех пор началось фактическое открытие и постепенное освоение «новой землицы» с ее огромным пушным богатством. Отряды служилых людей и ватаги промышленных и торговых людей устремились друг за другом в поисках богатых источников пополнения «государевой казны» и удовлетворения потребностей формирующегося общероссийского экономического рынка.
Новая «государева вотчина»
В 1620‑х годах в районе будущего Якутска побывал промышленник Пянда. В 1632 г. отряд Петра Бекетова заложил Ленский острог, ставший в дальнейшем основой г. Якутска. В том же году он достиг полярного круга, построил Жиганское зимовье. В 1635 г. Бекетов построил Олекминский острог; в 1633 г. было заложено Оленекское зимовье. В 1639 г. отряд Елисея Бузы по морю достиг устья р. Яны и устья р. Чендоны. Здесь служилые люди впервые встретили юкагиров и основали Чендонское зимовье. В 1639–1640 гг. отряд казака Ивана Реброва на р. Яне построил зимовье, а на Индигирке — два зимовья. В 1640–1644 гг. казак Иван Ерастов открыл р. Алазею; в 1644 г. была открыта р. Колыма, где были основаны Среднеколымское и Нижнеколымское зимовья. В 1648 г. казак Семен Дежнев из устья Колымы проплыл по морю на восток, обогнул северо-восточную оконечность Азиатского материка и открыл пролив между Азией и Америкой. В 1639 г. отряд казака Ивана Москвитина дошел до побережья Охотского моря. Русские на востоке достигли Тихого океана.
Таким образом, в 1630–1640 гг. вся Якутия вошла в состав Русского государства. Она была объявлена новой «государевой вотчиной». Впервые идеологию учреждения новой территориально-административной единицы на Лене, перспектив ее хозяйственно-политического освоения Русским государством, в целом же «о пользе Новой Сибири» обосновал мангазейский воевода А. Ф. Палицын (1633 г.). В 1638 г. организован Якутский уезд, возникла воеводская администрация. Власть воеводы распространилась на весь край. Якутия стала административно-территориальной частью государства. Это было официальное признание подданства жителей Ленского края Главе центральной власти.
И достигли океана
Якутский острог — столица уезда — стал центром открытия новых земель. Якутские служилые люди с севера проникли в Забайкалье и вместе с енисейскими казаками обеспечили вхождение коренного бурятского населения в состав Московского государства. Из Якутии казачьи отряды и промышленники попали в Приамурье, на Дальний Восток. В результате развернувшихся событий 1650–1653 гг. Приамурский край вошел в состав Русского государства.
Таким образом, за каких-нибудь два десятилетия русские люди достигли берегов Тихого океана и тем самым завершили процесс включения огромной территории Сибири (за исключением внутренних районов Чукотки) в состав России. Чем можно объяснить такую быстроту событий, в результате которых Сибирь стала частью территории Русского государства? Это можно объяснить в основном мирным характером действий государственной власти на вновь приобретенных землях, толерантной политикой правительства по отношению к коренным жителям края как к источнику ясачных поступлений, ставших серьезной статьей «государевой казны».
Конечно же, мы далеки от идеализации взаимоотношений между коренными жителями и воеводской властью, главарями казачьих отрядов. Как показывают факты, бывало разное. Но главное в том, что обе стороны были заинтересованы в мирном сожительстве, и это стремление было двусторонним и со временем стало ведущей тенденцией во взаимоотношениях между русскими и местным населением. В этом ведущую, если не решающую роль сыграли лидеры якутских улусов в лице князцов. Если служилые люди «оберегали» местное население, как источника налоговых (ясачных) поступлений, то князцы выступали как защитники родовичей от возможных конфликтов с пришельцами со смертельными последствиями. Последовательным выразителем идеи мирных взаимоотношений с властями был мудрый лидер борогонских якутов Логуй Амыканов, неоднократно предостерегавший власти от насильства и злоупотреблений. Его поддерживали намский Мымах, кангаласский Еюк и другие князцы. Отдельные стычки, «шатости» в 30‑х гг. XVII в., вплоть до вооруженных, не меняют общей картины. А после событий 1642 г., связанных с проведением в якутских улусах переписи населения и скота, мы вовсе не замечаем сколько-нибудь серьезных межэтнических столкновений. Что касается злоупотреблений служилых людей и местной воеводской власти, то они действительно были и усугубляли налоговый гнет, пагубно отразились на положении бедной части улусного населения. Но сведение многосторонних связей наших народов только к перечню этих злоупотреблений означает антинаучный подход к истории, фальсификацию сути исторического процесса.
«Только не воюйте нас»
Мы до сих пор недооцениваем роль «шертовальных» (клятвенных) договоренностей, к заключению которых прибегнул еще Петр Бекетов. Так, уже в 1632 г. ему присягнули 32 князца и «лутчих якутов» из 17 улусов, в числе которых были сыновья грозного Тыгына, якобы оказавшего ожесточенное сопротивление служилым людям: Бозеко, Откурай и Челлай с братьями. В сентябре 1642 го — феврале 1643 г. «шертовали по своей вере государю» 53 человека, из которых 21 были «князцами», остальные — «улусными якутами», сыновьями и братьями князцов. Подписавшие «шерти» обязывались «жить под царскою властью во всем и покое и в тишине, без всякого сумнения». И что очень интересно: якуты шертование сопровождали встречным условием — «только де не воюйте нас». До сих пор считалось, что шерть якуты давали принудительно, но, оказывается, это не так. Как видно, обязательства брали обе стороны, что свидетельствует о заключении своеобразных договорных отношений. Именно поэтому «шертование» оказало реальное влияние на установление мирных отношений между теперь уже подданными государства и местной властью.
Мирный характер событий способствовал сохранению традиционных основ хозяйственной деятельности населения, не разрушил и внутреннюю общественную организацию народов; не подвергались ломке культурные устои, не искоренялось обычное право — важнейший институт самоуправления, не подвергались запрету традиционные верования. Все этносы, населяющие регион, сохранили себя, не потеряли свое этническое начало. За это боролись лидеры народа Нохто Никин, Мазары Бозеков, Софрон Сыранов, Алексей Аржаков, Иван Мигалкин, Егор Николаев, Василий Никифоров и многие другие. Продолжая исторический выбор своих предков, они добивались того, чтобы государство при освоении территории Ленского края боролось против злоупотреблений местных властей, проявило интерес к тяжелому положению коренного населения, принимало меры к обустройству его жизни. Никто из них не выступал против нахождения Якутии в составе Российского государства.
Первая официальная делегация якутов в составе Нохто Никина, Мазары Бозекова и Трека Орсюкаева, ездившая в Москву для переговоров в 1676 г. и встретившаяся впервые с русским царем, на высоком властном уровне подтвердила верность выбору предков, и добилась положительного решения некоторых вопросов местного самоуправления. А выдающийся деятель Якутии конца XVIII в. Алексей Аржаков в 1789 г. на встрече с Екатериной II высказал мысль о том, что якуты «в прошедшее столетие добровольно поддались Российской державе» и просил позаботиться о благоустройстве Якутии, прежде всего с позиции укрепления самой империи. Иными словами Аржаков уже тогда озвучил идею: «Сильный регион — сильный центр».
Атаман не лукавил
Можно с уверенностью заявить, что если бы в XVII в. Якутия не вошла в состав Российского государства, то она могла бы стать добычей других сильных государств. Нельзя не забывать, что русско-китайские отношения определяли собой, начиная с XVII в., геополитическую ситуацию в Северо-Восточной Азии. Это имело бы непредсказуемые последствия для народностей Ленского края и всего Северо-Востока Азии. Общеизвестно, как колониальные державы Запада и Востока физически истребляли многие народы Африки и Америки, как они порабощали уцелевшую часть этих народов. А Русское государство во вновь осваиваемом регионе провозглашало прагматичную, гибкую и терпимую политику, настраивавшую на покровительственное отношение к новым подданным.
Относительно бытовых и человеческих контактов тоже обнаружены новые интересные факты. Хотелось бы обратить внимание на один из них. Так, небезызвестный в событиях 30‑х годов атаман Парфен Ходырев в 1641 г. называл своими «другами» Еюка Никина, Логуя Амыканова, Ижила Накураева и Сергуя Унегина, говоря о том, что он «был до них добр, поил де их, кормил». И, находясь в тюрьме из-за инкриминированных ему служебных злоупотреблений, он рассчитывал, что они вступятся за него и будут «бить челом, чтобы де меня воевода ныне выпустил из тюрьмы». То, что атаман не лукавил, тогда же подтвердил толмач из якутов Кузьма Туркин, который в разговоре с борогонским Огунеем Оргунеевым сказал буквально следующее: «Как Парфен был де здесь тоеном, а я де здесь был в толмачах и мы де до вас были добры». И еще один штрих — находясь в тюрьме, Ходырев и Туркин недоумевали: «Друзья де наши якуты ныне к нам молока и сметаны для чево не возят?». Как будто бы мелочь, но она достойна внимания — не могла же она быть придумана на пустом месте. Остается утверждать, что зарождение таких отношений — новое явление, свидетельствующее о том, что уже тогда неизбежно устанавливалось понимание обеими сторонами преимуществ мирных отношений.
* * *
Мы сохранили верность политической мудрости наших лидеров предшествующих эпох, разработавших идею единства с Россией и завещавших нам постоянно укреплять его. Многонациональное общество тогда крепко, когда составляющие его народы живут в мире и дружбе, сотрудничают во всех сферах жизнедеятельности. Мы считаем, что такая обстановка является характерной для нашей многонациональной республики. Благодаря этому республика динамично развивается по всем направлениям. Президент Российской Федерации во время визита в нашу республику в январе 2006 г. дал высокую оценку темпам развития ее экономики и подчеркнул, «что стабильное и динамичное развитие Якутии имеет ключевое значение как для Дальневосточного округа, так и для всей России». И это — «без всяково сумнения», как говаривали наши предки.